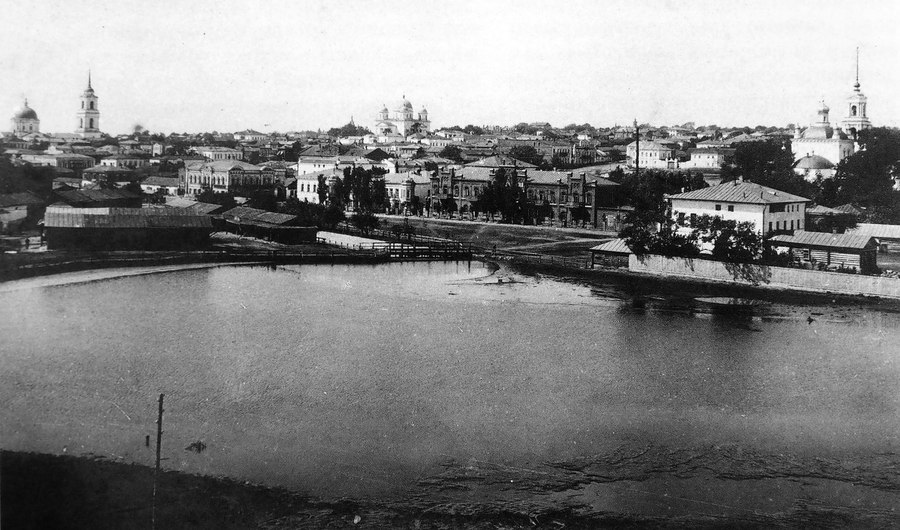
Следующим шагом в борьбе советского государства против Церкви и всякого влияния её на общество явилась кампания по закрытию церковноприходских школ и уничтожению духовного образования. С января 1918 г. прекратили выплату зарплат преподавателям, здания передавались в народную собственность. Церковь лишили права вести метрические книги, выражаясь по-новому, записи актов гражданского состояния. Взамен церковной советская власть в Липецком уезде 12 февраля 1918 г. организует отдел гражданской регистрации [22]. В липецких храмах в январе 1919 г. изъяли метрические книги и передали их в новые отделы регистрации. А священников к записи актов гражданского состояния вообще запретили допускать [23]. В новых паспортах было запрещено указывать вероисповедание [24]. В соответствии с декретом СНК от 7 декабря 1918 г. не только храмы, но и кладбища к маю 1919 г. передали в ведение совдепов. Был проведён учёт всей церковной утвари с составлением описей в 4-х экземплярах [25].

Местную власть специальными циркулярами подталкивали к закрытию церквей. «Закрытию и использованию в других целях эти здания подлежат только в тех случаях, 1) если не окажется граждан, желающих взять эти здания в пользование на условиях, изложенных в п. 5-8 инструкции Народного комиссариата юстиции, или 2) если в силу нужды в соответствующем помещении для общеполезных целей местный совдеп, отвечая запросам трудящихся масс (лучше всего на пленарном заседании), примет соответствующее решение» [26].
Началось планомерное поругание, и даже уничтожение православных святынь. В первую очередь это так называемая кампанию по вскрытию святых мощей. В Задонском Богородицком мужском монастыре честные мощи Святителя Тихона — главная святыня для всего нашего края — были вскрыты и поруганы, а затем изъяты и переданы в антирелигиозный музей. После этого последовало упразднение самих монастырей, которые исстари на Руси были островами духовности, твердынями духа и оплотами Православия. Интересен в этом отношении текст письма из отдела юстиции Рязанского губисполкома Раненбургскому уисполкому от 1919 г.: «Ввиду того, что многими уисполкомами неправильно понят декрет об упразднении монастырей и во многих уездах до сих пор монастыри не упразднены, а именно, в некоторых монастырях по-прежнему все корпуса и келии заселены монахами и монахинями, между тем они должны быть давно выселены, а помещения предоставлены для общеполезных культурно-просветительных целей, в других же уездах при упразднении монастырей монастырь передавался монахам как группе верующих, что в корне неправильно и недопустимо… В некоторых же случаях монахи ещё более тонко старались обойти декрет и обманули советскую власть, а именно: организовали или, вернее сказать, заявляли себя, бывшую братию, коммуной… Упразднить существующие в уезде монастыри в месячный срок со дня получения настоящего отношения <…> Монахи же и монахини как нетрудовой элемент должны быть немедленно выселены из монастырских корпусов» [27]. В рамках кампании по закрытию монастырей по всей стране к 1922 г. было упразднено 600 православных монашеских обителей.
Следующий этап антицерковной политики безбожной власти – изъятие церковной утвари. Искусственно был вызван голод в Поволжье, а хлеб эшелонами везли в Германию. «Спасти» голодающих решили за счет ограбления Церкви. Делая ставку на широкомасштабную и хорошо организованную кампанию по изъятию из храмов ценностей, советская власть решала для себя сразу несколько задач. Кроме прямого ограбления Церкви и нанесения ощутимого урона самой её деятельности, власть получала спровоцированные ей поводы для проведения репрессий в отношении священнослужителей и мирян, встававших на защиту своих приходских храмов. Вот как излагал эти задачи Ленин в секретном письме к Молотову: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления… Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий» [28].
Вскоре с пометкой «строго секретно» вышло постановление Политбюро ЦК РКП(б) «Об изъятии церковных ценностей» с приложением записки Л. Троцкого. Вот выдержки из протокола этого заседания: «Об изъятии церковных ценностей» (Предложение т. Троцкого). Предложенный т. Троцким проект директивы принять <…> Председателем комиссии назначить т. Калинина <…> В каждой губернии назначить неофициальную неделю агитации <…> Агитации придать характер, чуждый всякой борьбы с религией и церковью, а целиком направленный на помощь голодающим <…> Внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении инициативу и взяв под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия. Видных попов по возможности не трогать до конца кампании, негласно, но официально (под расписку, через губполитотделы) предупредить их, что в случае каких-либо эксцессов они отвечают первыми <…> В случае, если бы черносотенная агитация зашла слишком далеко, организовать манифестацию с участием гарнизона при оружии с плакатами: церковные ценности для спасения жизни голодающих» [29].
23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. Большевики планировали в результате этой акции получить 525 тыс. пудов серебра. При этом имя Троцкого как главного организатора кампании держалась в секрете, а вся публичная работа проводилась через М.И. Калинина. 8 марта 1922 г. постановление ВЦИК предписывало местным советам «…в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ <…> все драгоценные предметы из золота, серебра и камней». Предварительно новая власть ограбила музеи, изъяв экспонаты, «не имеющие особой ценности» [30].
Уже через три дня после постановления ВЦИК, 11 марта 1922 г., Липецкий укомпарт распорядился: «По проверке церковного имущества <…> немедленно приступить к изъятию. Организовать комиссию в составе: предкомголод т. Янкина, председателя уисполкома т. Донковцева и зав. УФО тов. Разорёнова». Комиссии приказывалось «…приступить к изъятию в первую очередь в г. Липецке. Начать с собора». Грабёж начался 16 марта [31]. Весной 1922 года во всех липецких храмах побывали комиссии, описавшие имущество церковных ризниц и проведшие экспроприацию золотых и серебряных предметов утвари. Исполнителям, например, по Кузьминской волости, выдали мандаты, подтверждающие их право «на изъятие ценностей в церквах, монастырях и синагогах»! Откуда, правда, в Кузьминской волости синагоги — не уточняется [32].
Изъятые «богатства» из липецких храмов вывозили пудами на подводах. 3 мая 1922 г. Липецкий уфинотдел сообщал, что с 16 марта по 2 мая было изъято церковных ценностей всего весом «31 пуд 16 фун. 92 зол. 88 дол., драгоценных камней 354 штуки. Из них бриллиантов 181 шт., бриллиантовых осколков 166 шт., алмазов 5 шт., <…> жемчужин 144 шт.» Из этого количества в самом Липецке к 1 мая изъято «…серебра 19 пуд. 28 фун. 72 зол. 11 долей и камней 496 шт.», которые отправлены в Москву [33].
Но, видно, и этого кому-то показалось мало. 17 мая из Тамбова в Липецк было отправлено письмо: «Произведено неполное изъятие ценностей из богатых церквей города Вознесенской, Троицкой, Собора, <…> что объясняется вашим упущением <…> немедленно производите изъятие, строго руководствуясь секретными инструкциями <…> Предупредить уисполкомы, что те из них, которые к 20-му мая <…> не закончат, будут сейчас же преданы суду…» [34].
В отдельных храмах общины смогли спасти часть драгоценной утвари. Согласно сохранившимся актам, утварь «исчезла» в сёлах Ссёлки, Ильино, Малей, Воскресенское, Кузовка и др. [35] Люди понимали, что истинные цели — не спасение голодающих. Ведь ещё в марте 1922 г. ВЦИК уточнял: «замена церковных ценностей хлебом и другими продуктами недопустима».
Изъятие церковных ценностей прошло в три этапа, последний этап — во время закрытия храмов. Но лишение Церкви огромного количества утвари и окладов икон не сделало храмы менее посещаемыми и нисколько не умалило духовной силы соборной молитвы верующих. 12 июня 1922 г. в нарушение декрета «О свободе совести» новым декретом ВЦИК вводился принцип «регистраций» местными органами власти всех религиозных обществ.
В борьбе с Русской Православной Церковью ставка в это время была сделана на раскол и поддержку обновленцев, план деятельности которых разработал Троцкий, санкционировал и обеспечивал 6-й отдел ГПУ по распоряжению и инструкциям Политбюро. «Прогрессивное» духовенство требовало смещения Патриарха Тихона, удаления из Церкви «монархических кругов», проведения широкомасштабных реформ в самой Церкви в духе революционных преобразований в государстве. Первое время, пользуясь поддержкой власти, обновленцы сумели захватить большое количество храмов, активно вели свою противоцерковную деятельность. Проходили даже обновленческие соборы. Но ни идеи, ни дела обновленцев не находили широкой поддержки у верующих, в том числе в нашем крае. Так, в июле 1923 г. после освобождения Патриарха Тихона из-под стражи православные священники и миряне Липецка направили Святейшему «сыновнее изъявление», в котором содержалась такая оценка происходящего: «Затеянная «Живой Церковью» религиозная революция, противная самой природе Христовой Церкви и крепкому ещё русскому здравому смыслу и православному народному чувству, должна окончиться: начало конца положено в том акте, который «Живая Церковь» сочла за полную свою победу. Назвавший себя Российским поместным церковным собором апрельский съезд живоцерковников в Москве своим неслыханным дерзким противособорным постановлением о низложении Вашего Святейшества окончательно выявил протестантский и насильнический лик «Живой Церкви», провел решительную грань в сознании верующих между истиною и ложью, утвердил нас, давно несочувствующих провозглашенному ею церковно-обновленческому движению, резанул по сердцу и заставил отшатнуться от него всех тех, которые относились к этому движению безразлично и под давлением легкомысленно делались живцами» [36]. Вообще в Липецке и уезде обновленцы не достигли тех успехов, которых добились в некоторых других городах Тамбовской епархии — Кирсанове, Лебедяни, Моршанске, Борисоглебске, самом Тамбове. И даже внешнее подчинение большинства духовенства руководящим органам обновленчества, чья власть и сила были основаны на власти и силе карающей десницы революции, не могло изменить ситуацию. Хотя в 1922-1925 гг. в Липецке действовала обновленческая епископская кафедра, которую возглавлял Василий Знаменский — бывший настоятель усманского собора, из вдовых священников, большинство клириков и мирян продолжали хранить верность «монархической и черносотенной» Патриаршей Церкви и возносить соборные молитвы о здравии и благоденствии Святейшего Патриарха Тихона [37]. Показательно в этом отношении стойкое сопротивление липчан попыткам обновленцев захватить городские храмы. Липецкий собор, например, так и остался у приверженцев Святейшего Патриарха Тихона.
А вот как описывал ситуацию в Тамбовской епархии в письме Патрираху Тихону от 29 июля 1923 г. священник с. Иншаково, Тютчеве тож, Лебедянского уезда Пётр Алексеевич Шмарин — будущий епископ Липецкий Уар: «В настоящее время вся Тамбовская епархия в руках «живцов», однако настроение духовенства мне хорошо известно, и я смею утверждать, что 99% его состава подчиняется «обновленческому епархиальному начальству» лишь по крайней необходимости, грубо насилуемое, дожидаясь только благоприятного момента, когда оно может открыто порвать свою чисто внешнюю связь с преступной и отступнической организацией… К сожалению, духовенство в провинции настолько запугано, что при всей своей ненависти к установившемуся крайнему деспотизму и безобразию «живоцерковников» оказывается, однако, совершенно неспособным к активному против них выступлению и свержению ига их… Впрочем, в провинции за последнее время начинает выступать против «обновленцев» верующий народ, который доселе стоял как бы в стороне от совершающихся событий в церковной жизни, так как «обновление» его доселе непосредственно нисколько не касалось. В связи с переходом на новый стиль народ пробудился и увидел уже в одном этом прецедент посягновения на свое «святая святых». Духовенство оказалось между двух огней: епархиальное обновленческое начальство предписывает, под угрозой лишения мест, совершать богослужение непременно по новому стилю, а народ грозит расправой и изгнанием из прихода, если священник осмелится нарушить своим служением по новому стилю многовековой церковный быт и распорядок. Чем закончится наступившая церковная анархия, предрешать трудно, но, кажется, одно несомненно, что «живоцерковники», так легко завоевавшие себе господствующее положение, при крайне благоприятных для своей безпринципности внешних условиях, должны будут и в провинции скоро окончательно сдать свои позиции под стихийным натиском крайне враждебно настроенного по отношению к ним народа… Духовенство и жители Лебедянского уезда, оставшиеся верными историческим религиозно-нравственным началам и укладу Православной Церкви, не имеют фактически своего законного епископа и чувствуют себя в духовном отношении в настоящее время крайне сиротливо. Они не знают, как и куда им обращаться в своих неотложных церковно-приходских нуждах. Является крайняя необходимость в своем епископе, который объединил и вдохновил бы разрозненных пастырей и успокоил бы мятущихся пасомых» [38].
В середине 1920-х гг. начался новый этап в истории Православия в Липецком крае. В 1926 г. была создана Липецкая епархия, в которую вошли 6 районов — Липецкий, Боринский, Задонский, Нижне-Студенецкий, Краснинский, Лебедянский и Трубетчинский. При выборе кандидата в епископы выбор священноначалия пал на того самого вдового священника с. Иншаково Петра Шмарина. Свою роль здесь сыграло, видимо, и его письмо Святейшему, и тот факт, что когда-то он служил в Финляндии под началом архиепископа Сергия (Страгородского), возглавлявшего Русскую Православную Церковь в 1926 г. в качестве заместителя Местоблюстителя Патриаршего престола. 20 августа 1926 г., по предварительном пострижении в монашество с именем Уар, Пётр Шмарин был хиротонисан во епископа Липецкого.
Первый Липецкий епископ родился 11 октября (по ст. ст.) 1880 г. в с. Новая Ситовка Липецкого уезда Тамбовской губернии в бедной крестьянской семье Алексея и Марфы Шмариных. Мальчик рано остался сиротой и воспитывала его мать. Лишь при помощи местного священника Константина Васильевича Гиляревского, который взялся помочь способному мальчишке, Пётр Шмарин получил образование. По окончании сельской школы и Тамбовской гимназии он поступил в Иоанно-Богословскую учительскую семинарию в с. Ново-Александровка Козловского уезда Тамбовской губернии. В 1904 г., после женитьбы на Клавдии Георгиевне Стрельниковой он был рукоположен в сан диакона к церкви с. Колояр Вольского уезда Саратовской губернии, а в 1910 г. — во священника к храму одного из островов Валаамского архипелага, где прослужил несколько лет. Потом был приход под Выборгом. После революции 1917 г. семья о. Петра вернулась в родные места, а сам священник оставался в Петрограде. В следующем году скончалась в Ново-Ситовке от тифа матушка Клавдия. Детей взяли родственники из Лебедяни и Липецка, а сам о. Пётр вскоре вернулся из Петрограда. 2 марта 1919 г. он получил приход в с. Иншаково в нескольких километрах от Лебедяни, где начался его исповеднический путь. В начале 1920-х гг. его несколько раз арестовывали, держали в тюрьме, угрожали расправой и требовали отречься от сана. На всё это будущий священномученик отвечал: «Того, чего вы от меня добиваетесь, — этого вы никогда не добьетесь. Уж я такой человек: во что верую — тому никогда не изменю, так что напрасны все ваши усилия» [39].
В 1926 г., в сложное и трагическое для Русской Церкви время Владыка Уар возглавил Липецкую епархию. Ему сразу же пришлось столкнуться с целым рядом трудностей и проблем, усиленно создаваемых Церкви советской властью. С 1927 г. начался процесс расторжения договоров с общинами верующих, арендовавшими здания храмов для богослужений [40]. В бюллетене НКВД №26 (245) от 1 октября 1927 г. опубликован циркуляр №351 от 19 сентября 1927 г. «О порядке закрытия молитвенных зданий и ликвидации культового имущества», в котором указывались предлоги и способы закрытия храмов, которые и взяли на вооружение органы власти Липецка. Советские органы могли «прекратить публичное пользование верующими молитвенным зданием, если таковое грозит падением или если скопление в разрушающемся здании культа большого количества молящихся является для последнего угрожающим в смысле обвала здания». Давались разъяснения, как изымать оставшиеся в храмах ценности, приспосабливать помещения под хозяйственные нужды и сносить. Указания и инструкции активизировали работу местных администраций. Здания объявлялись аварийными, от общин требовали проведения дорогостоящих ремонтов, брали помещения в аренду под склады для ссыпки хлеба с тем, чтобы больше не возвращать их верующим.
8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О религиозных общинах», а 1 октября того же года вступила в силу специальная инструкция НКВД. Эти документы по существу отвергли принципы свободы совести и развязали руки властям для произвола в отношении Церкви. Под видом перерегистрации общин, которую обязали завершить к 1 мая 1930 г., началось массовое закрытие православных храмов [41]. Не решаясь просто взять и опечатать посещаемые тысячами верующих храмы, органы государственной власти стали иезуитскими методами готовить видимость законности такого решения. Для этого фабриковались «наказы избирателей», «открытые письма рабочих», общины верующих громогласно обвинялись в долголетней неуплате налогов, оказывалось давление на членов церковных советов, сами храмы объявлялись находящимися в аварийном состоянии, представляющем опасность прежде всего для самих верующих и т.д. Таким образом, в 1930-е гг. были закрыты все городские храмы Липецка, последней, в 1940 г., — Успенская кладбищенская церковь.
При этом некоторые храмы — Троицкий, Покровский и часовни вовсе были разрушены, а городские власти на собраниях и митингах бодро и радостно рапортовали об уменьшении числа культовых зданий в Липецке, явно «мешавших» построению социализма, докладывали о количестве кирпича, добытого из стен храмов для нового строительства. Рьяные строители светлого будущего накануне закрытия храмов изъяли из них колокола и всю «макулатуру» — богослужебные и метрические книги, церковные архивы, летописи храмов. Наша история и культура погибали на основании распоряжения окрисполкома за №505/с от 10/VII-1929 г. «Об изъятии церковных библиотек и архивов». Варварство это жёстко контролировалось. «В результате обследования некоторых РИКов обнаружено преступно-халатное отношение к выполнению… Учитывая важное значение этой операции как антирелигиозного мероприятия (прекращение религиозной агитации через печать), одновременно дающей промышленности около 4 вагонов бумажной макулатуры и ряд документов для антирелигиозной пропаганды, окрисполком предлагает <…> в 10 дневный срок закончить эту работу и об исполнении немедленно сообщить <…> указав приблизительное ВЕСОВОЕ (! — Выдел. авт.) количество изъятых материалов (отдельно по библиотеке и архиву)… Виновные в неисполнении этого постановления будут привлечены вплоть до предания суду» [42].
К примеру, 30 ноября Данковский РИК докладывал: церковные библиотеки и архивы изъяты «…приблизительно весом около 150 пудов» [43]. И неудивительно, что в архивах страны в наше время невозможно получить полноценных сведений ни по своим родословным, ни по истории церквей и монастырей, ни по истории православной культуры вообще.
После этого в конце 1929 г. была введена кампания по изъятию из храмов «ненужных» предметов из цветных металлов, «необходимых стране для индустриализации» [44].
Постановлением Секретариата ЦИК от 15 декабря 1929 г. горсоветам райисполкомам предоставлялось «право регулирования колокольного звона», а решением СНК СССР за подписью его председателя Рыкова от 8 октября 1930 г. для получения 20 тыс. тонн цветного металла предлагалось «изъять колокола со всех церквей, где колокольный звон запрещён», а в остальных оставить один небольшой колокол. Предполагалось собрать 97950 т колокольной бронзы. 28 ноября 1930 г. по требованию «рабочей и бедняцко-батрацкой части города со всех церквей города Липецка, за исключением церкви Евдокиевского кладбища, все колокола, не исключая и малых, сняты» [45].






